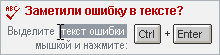Почему Воланд так сильно постарел?
Судить художника по законам, им самим над собою признанным. Так нам Пушкин завещал, но для этого пока ни духу, ни исторической дистанции или фокусного расстояния не хватает. К тому же, с советских, застойных времен отношение к «Мастеру и Маргарите» у широкой нашей публики непростое. Отношение как к одному из первых слов правды – о собственной жизни, может, не до конца понятому, но прочувствованному очень глубоко.
Что же касается авторских законов, то в интервью украинской газете В. Бортко напомнил о менипеях, менипповой сатире. Про что речь?

Мениппова сатира названа так по имени греческого поэта Мениппа. Гениальный русский философ, культуролог и филолог Михаил Бахтин , введший этот термин, сократил название до удобного слова «мениппея». Вот его определения, подходящие к нашему случаю: «мениппея – это жанр «последних вопросов». В ней испытываются последние философские позиции. Мениппея стремится давать как бы последние, решающие слова и поступки человека, в каждом из которых – весь человек и вся его жизнь в ее целом», «мениппея наполнена резкими контрастами и оксюморными сочетаниями: добродетельная гетера, истинная свобода мудреца и его рабское положение, император, становящийся рабом, моральные падения и очищения, роскошь и нищета, благородный разбойник и т.п. Мениппея любит играть резкими переходами и сменами, верхом и низом, подъемами и падениями, неожиданными сближениями далекого и разъединенного, мезальянсами всякого рода», «наконец, последняя особенность мениппеи – ее злободневная публицистичность. Это своего рода «журналистский» жанр древности, остро откликающийся на идеологическую злобу дня». Испытания идей низменными реалиями или признание неоднозначности реалий, побеждающих убожество идей.
Довольно ли с Вас, взыскательный зритель? С нас – вполне. Надо было, чтобы прошло хотя бы лет десять после падения советской власти, чтобы немножко приподнять голову и понять, о чем же написан, по преимуществу, социальный, а не философский, по преимуществу, фельетон, а не роман-поэма. Чтобы отыскать точку пересечения сюжетных линий, различить отдельные мелодии этого полилога булгаковских героев, а не только один сокрушительно безнадежный, барабанный лейтмотив. Напомнить как носители коммунистической идеологии, светочи пролетарского гуманизма, топили в крови собственную страну, а дьявольская нечисть превращалась в оружие божественного возмездия, защиту нравственности, последнюю надежду униженных.
Забавно, как в нынешних критических голосах, зазвучавших еще до закрытия занавеса, до конца показа фильма опять обнаружились почти пародийные, «совкритические», с пеной завистливых взвизгов нотки. Воланд ? Вяловат и староват. Пилат ? Староват и простоват. Иешуа? Как-то не иисусоват. А этот кот – так совсем не котоват. Москва с «Грибоедовым» – не москвовата. Представленьице в варьете – не прикольновато. Менты и чекисты излишне сталиноваты. На кого это из высших руководителей намекает автор пилатовской любовью к собаке? Что это у вас героя – в сортире мочат? Это опять автор нас невесть куда ведет – от намека к намеку. И вообще, все не так просто. Так и кажется: вот утвержденное глубокомыслие всеведущего Берлиоза, а вот разоблачительный совсарказм Латунского. И наконец, скажут ли нам официально что же хотел автор навязать общественности своим художественным произведением?
Что-то бледненько на экране, что-то бедноватенько. Никакого разворота спецэффектов, никаких масштабных фейерверков, а только подобие балетных декораций… На это - как отвечать? Когда глаз привык к вылизанности рекламных роликов, почти сливающихся по художественной палитре с «основным текстом» сериала, когда драматизм событий, любые страсти-мордасти типа кровавых преступлений, революционных потрясений или природных катаклизмов можно успокоить всякими симметричными виньеточками, правильными ракурсиками, костюмчиками, машинками и кареточками, художник опускает руки или переучивается – на потребу заказчику.
Между тем, советское телевидение, отточенное до притчевых подтекстов советской цензурой, очень хорошо умело работать в малобюджетных нишах телеспектаклей. Понятно, что декорационное богатство не может компенсировать сценарной бедности, актерских несовершенств или режиссерской недодуманности. Однако, диалоги, актеры, постановщик вполне могут справиться с художественной задачей даже при минимуме оформительских возможностей. При этом вовсе не в ущерб делу. И ежели часть публики жалуется на бледность оформления, значит дело не в оформлении, а в чем-то другом… Аскетизм притчи ли кому-то колет

Но что же сделаешь с крапивным семенем нетерпимости? Не выводится оно, еще сорок лет пройдет, а оно тут же. Не построено еще таких пустынь, по которым бы оно выводилось. Не родились те моисеи.
Бортко снял «Мастера и Маргариту», ради того, ради чего он и был задуман Булгаковым. Но это и его собственное, авторское объяснение, исповедь и оправдание того, почему же люди не вмешались в творившееся самоуничтожение – культуры, страны, народа. Почему мы отдаем лучших, светлых, а сами остаемся - в общем нашем, бесконечном, отчаянном прозябании. Почему как кролики замираем под репродукторами, цедящими густую патоку удавьих гипнотических речей. И про то, почему у нас остается надежда. А сама публикация романа в 67-ом и его экранизация в 06-ом – не есть ли подтверждение авторской правоты, этой самой надежды? Несмотря на сегодняшнюю, новую нашу близость все к тому же болоту.
Что значит теперь социальность романа? Это значит, что арестованного бродячего проповедника Иешуа допрашивает умудренный и высококвалифицированный чиновник, ничего не боящийся кроме вышестоящего начальника. Досталинский, сталинский или послесталинский – не важно. И пока этот бродяга резонерствует, чиновник терпит и забавляется, но когда бродяга посягает на начальство, чиновник действует в соответствии с рабочим регламентом. То есть, удаляет подрывной элемент. Для укрепления всеобщей и полной стабильности, для поддержания управляемости.
Понятно, что страсти и слабости – вечны, а потому библейски вечное окрашено у Бортко в цвета. Оказывается, что весь ершалаимский сюжет – с базаром, распятием, стражниками, дворцом, - более реалистичен, чем Москва тридцатых года прошлого века. И все вспышки даже самых мрачных страстей немедленно вспыхивают цветами в моменты истины. Потому полыхает пламенем камин, из которого выезжают гробы с оживающими скелетами, потому настоящая кровь сочится из-под антивенца Маргариты на балу… И хоть апологеты официозного православия уже окриком попытались предупредить публику о крайней аморальности героини, но все же не может быть умалено ее великодушие, спасающее не только Мастера, но и Фриду, но и Латунского… Каким же конъюнктурными на этом фоне выглядят неудовольствия церковных чиновников…
А Москва в фильме пребывает в спячке, в тонированной «текучке». Какой современной, актуальной кажется эта картинка. Автор только подмигивает постоянно: вот набережная напротив Кремля, вот Патриаршие, вот решетка скверика у «Грибоедова», а сам «Грибоедов» обобщенно легендарен, а клиника Стравинского откуда-то из питерских пригородных мест, а улочка встречи Мастера с Маргаритой – из задов питерского Апраксина двора… как обобщение, что ли. Русский город, корчащийся, давящийся советскостью, нервно задернутый дымным пологом.
Воланд Олега Басилашвили очень устал выполнять свою миссию мщения там, где добро не в силах за себя постоять. Хотелось бы, чтобы дьявол выглядел бодрее, моложе и веселее, правы критики. Но ведь советской власти случилось так много и так надолго, что впору устать. Кажется, он объясняет истинность главной мировой истории вот уж тысячный раз, а от того и раздражение, и глубочайшее разочарование там, где хотелось бы хоть немного очароваться. Но простите, от булгаковского романа до российского нынешнего дня десятилетия прошли, уже и чертовской бодрости не хватает. Воланд с Коровьевым, Азазелло и котом звучат в одной тональности. Скрип их сарказма – это скрип воспоминаний о какой-то давно раздолбанной фисгармонии. Как известно, у нас и симфонизм Шостаковича выродился до уровня Шнитке.
Испытания высоких идей низкой реальностью? Да, пожалуйста. Вот вам социальная справедливость, коммунистическая раздача свалившегося на голову богатства – через варьете, раздел собственности, позволящий более не завидовать ближнему: у тебя коммунальный угол, у меня коммунальный угол. Но слаба природа, хочется вкуснее, теплее, мягче, да и натерпелись уже. Это ведь вечный спор сатаны с царством света и истины, с проповедником доброго в человеке. В сатанинской модели человечек все по кругу бегает, нисколько не меняясь. Вот уж и возмездие становится самодостаточным, торжествующим, тотальным. Дайте возвышенные примеры, чтобы дьявольское отступало… Но если нет примеров, то… Все по кругу: чуть изменился ритуал – форма одежды, архитектуры, приветствий, - так кого же это обманет?… То с котами можно – то с котами нельзя. Вот и вся эволюция. Только

Загнанный в крайние, необъяснимые, невыносимые обстоятельства, гражданин хороший начинает вести себя то ли как зверюга последняя, стремясь жизнь свою защитить… (А как еще защитить – да сдать всех куда следует.) Или же, как виденный вами поэт Ваня Бездомный, погнавшийся за нечистой силой. Честный, хороший человек. Чего погнался, чего иконку схватил со свечкой? А чтобы черту за безвинно отнятую жизнь отомстить. Нерасчетливо, безоглядно, по душевному порыву погнался, еще окружающих пытался убедить… Правда, и он пулеметы из милиции хотел вызвать. Но ведь не спрятался, не постарался забыть, а смело так – за ближнего… Бездомный Владислава Галкина по наитию действует, но наитие у него честное и благородное. Он за свечку с иконкой как голодный за черствую краюху хватается. Вот что его спасает. Будущего ученика Мастера, отстаивающего последний свой квадратик – независимости и человеческого достоинства.
Испытание идеей всеобщего счастливого равенства и любви – вот что проходят герои трех линий романа. И все заканчивают отчаяньем, то есть, поражением. Нет им места на этом свете, только покой и ожидание – на том. Но есть еще негорящая рукопись, как оправдание и указание – нам, авторское слово и авторская правда, сводящиеся к тому, что приходит после отчаянья. После Мастера, брошенного Маргаритой, Иешуа , брошенного учениками, бедных наших сограждан, поверивших и преданных кузнецами всеобщего счастья – в форме и без форме, с орудиями пыток, с золотыми перьями, с пушками и танками, замороченных дьявольскими соблазнами… Мы все были преданы. Боги, боги, что же нам теперь делать?…
Дьявольщина купается, пирует в этой бездне лицемерия, пошлости, вранья, корысти. Но только ли? Здесь все просто и понятно, за какие ниточки дергать. Дьявольщина справедливо негодует, когда лицемерие и пошлость выдают себя за благочестие, за высоконравие. Вот тут-то и следует немедленное возмездие. Не залезай на чужую грядку, не возносись выше края кипящего котелка. Обратите внимание на то, как точно и осторожно Воланд-Басилашвили обозначает границу своих полномочий. Это Маргарита прощает Фриду, это Маргарита отказывается от убийства Латунского, это Мастер останавливает попытку отомстить за него…
Почему Афраний, начальник тайной стражи, говорит голосом Воланда? Это второй ход и он у Бортко не случаен. Постановщик хотел бы идентифицировать героя с автором, увидеть в Иешуа не Христа, а Мастера, увидеть за спиной Понтия Пилата не начальника, а дьявола, прикинувшегося Афранием, исполнительным слугой, средством, пытающимся оправдать цели. Как Афраний цитирует Иешуа, говорившего о страхе? Как рассказывает об Иуде? Кто же кого направляет? Пилат слугу или слуга Пилата? Кто склоняет к пролитию крови и усугубляет душевные муки, умножает отчаянье?
Публику обескураживает и раздражает, что в фильме нет влюбленности Маргариты в Мастера, нет праздника любви. Все выморожено до бесстрастности. Но, может, так и должно? Ведь это только его воспоминания о прошедшем – почти протокол жизни, скромно иллюстрированный, когда речь о сокровенном. Впрочем, и в «Идиоте» Бортко сторонился любви как страсти, как безоглядного порыва, как голой чувственности. А здесь у него и зеленоватая Гелла похожа, скорее, на потертых трудной биографией привокзальных профессионалок, и порыв взбалмошной Наташи, остающейся навечно в ведьмах какой-то дурацкий…
Страстно хочется сказок, потому что терпеть до полной победы сил не остается. Соврите нам что-нибудь. Про нас же, про нашу с вами небезнадежность. Глядишь, что и сбудется. Что есть деятельное великодушие? Может, это последнее слово Мастера, отпускающего на свободу – от мучений совести – Пилата? Может, это наша высота, до которой далеко еще, но которую прозревал Булгаков?
Мифы помогают разобраться в суете происходящего, настроить систему, смягчить и облагородить нравы. Детям - Поттера, волшебного Льва, взрослым - Антона Городецкого, почти сказочного Фандорина, всем вместе – хоббитов и гобблинов. Легендарных героев, проходящих сквозь отчаянье как сквозь огонь. Публика просит. Сгорим или закалимся, только позвольте поверить в лучшее. Даже если не совсем об этом – роман «Мастер и Маргарита».
Победа добра после смерти героя, после его отчаянья и сдачи, полной капитуляции. Надо опять стряхнуть пепел со страниц и извлечь из камина хотя бы часть великой рукописи – вот и общее наше оправдание. Преодолевали, страдали - не даром, роскошь земной дьявольщины неизбежно отступит перед аскезой истины и добра.
Алексей Токарев